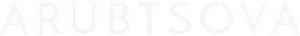Я считаю, это ценный момент.
И отвечаю, что успех нашей работы зависит именно от того, сможем ли мы прийти к общему пониманию. Сможем ли мы договориться о том, что будем называть черным, а что — белым. Что — насилием, а что — любовью. Что — страшным, а что — естественным. Создать то, что философы называют «общим полем смыслов».
Это можно представить, как Транссибирскую магистраль.
И вот клиент, например, говорит… Например… Например: «Слушайте, ну ведь во всех семьях изменяют». Или: «Ну, если меня били, значит, было за что, правильно?».
И я предполагаю, что он сейчас где-то в районе Ярославля, а я где-то около Читы.
И мы начинаем двигаться друг к другу.
Когда мы, наконец, встретились, и создано общее поле смыслов, обычно мы уже не в Ярославле и не в Чите, а где-то под Омском.
Иногда эта дорога занимает много времени. Пути постоянно заносит, товарняки перекрывают дорогу, станционные смотрители бастуют, и мы, доползая до вожделенной точки, глядим друг на друга с отчаянной радостью и недоверием. Стягиваем железные сапоги и щуримся от солнца.
А иногда мы вообще на соседних станциях. Буквально десять минут на электричке.
Никогда заранее не знаешь, как пойдет.
Этот навык путешествий навстречу друг другу — ничего сакрального в нем нет. Немного посложнее чистки зубов и приготовления яичницы.
Просто у нас этот навык часто хромает. Или отсутствует. Нас этому не учили, и до сих пор не учат.
Поэтому иногда мы думаем, что другие абсолютно идентичны нам, и обо всем должны сами догадаться, а «если он сам не понимает, то и объяснять бесполезно».
Это неправда.
Или — что чувства, хоть наши, хоть другого человека, это такая незначительная деталь в общей картине, надстроечка над здравым смыслом, которую просто можно выкинуть. И картина не изменится.
Все обстоит с точностью до наоборот.
Это так называемую «рациональность» и «здравый смысл» можно не учитывать. Мы их и не учитываем сплошь и рядом. Чувства крутят ими (и нами), как хотят.
Еще мы можем считать, что «людям просто пофиг, что я думаю», и «все мои переживания — ненормальные», и так далее, вариантов я слышала много.
И все это может означать только, что нам отчаянно страшно быть непонятыми.
Сказать об этом тоже отчаянно страшно.
Да часто и некому.
И остается только выращивать в одиночку, в вакууме, свой чертополох.
Поэтому, да, я говорю, что успех психотерапии на три четверти зависит от того, научимся ли мы друг друга понимать. Не с первого, конечно, раза. Часто и не с десятого.
Но с какого-то — научимся.
А потом это умение — оно чудесным образом оказывается применимо везде. Помогает договариваться с родителями. И с детьми. И с собой. И понимать свое тело. И коллег по работе. И заказчика.
Можно больше не ждать на заснеженном полустанке, когда наш поезд поедет хоть куда-нибудь. Или до нашего запасного пути доберется команда спасателей (которые сами догадались, что нас надо спасти, хотя мы не подавали сигнал бедствия, и вообще улыбались, но они же «должны были сами понять»).
Позволительно быть самому себе машинистом, и храбро двигаться вперед. И прокладывать новые рельсы, а не ехать по старым, в тупик с чертополохом.
Путешествовать и не бояться рисковать. Или отъезжать назад и не чувствовать, что ты сам себя предал. Или злиться на задержку в пути и понимать, что эта злость не порвет тебя, как тузик грелку.
И возвращаться в свой внутренний Ярославль тоже можно. И другим его показывать.
Вы удивитесь, но многим там понравится.
Какое, скажут, у вас тут место чудесное. И свет, и речка, и холмы… позвольте остаться тут подольше.
Фото: unsplash.com